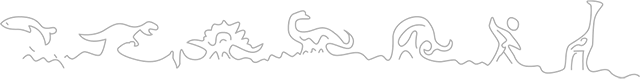Идеологическая природа дарвинской эволюции
[...] Согласие преподавать курс по науке и религии дало мне повод погрузиться в литературу по эволюционной биологии. До этого момента я полностью принимал истинность дарвинской эволюции. Однако теперь я был потрясен, узнав, насколько легко такой ученый-гуманитарий, как я, может деконструировать эту литературу. Доказательства дарвинской идеологии не были искусными, а, наоборот, выпрыгивали со страниц по мере того, как я читал. [...]
«Совсем другие основания»
Известно, что Август Вейсман стал одним из самых ярых сторонников Дарвина, считая естественный отбор единственным механизмом эволюционных изменений (в противовес Дарвину, который оставлял за собой роль ламаркистских механизмов). Но что привело Вейсмана к поддержке естественного отбора? В статье, опубликованной в 1909 году в антологии, посвященной 50-летию «Происхождения видов», Вейсман неожиданно заявляет, что его поддержка естественного отбора основана не на доказательствах, а на том, что он называет «совершенно другими основаниями».
Позже в эссе эти «совершенно другие основания» становятся очевидными. Как пишет Вейсман, «мы должны принять его (естественный отбор), потому что явления эволюции и адаптации должны иметь естественную основу». Но Вейсман свободно признает, что не может привести формальное доказательство этого или рассчитать размер вариаций и их селекционную ценность. Он явно принял естественный отбор по идеологическим причинам. Эволюция должна иметь натуралистическую основу.
Аналогичный аргумент приводится в основополагающей работе Рональда Фишера «Генетическая теория естественного отбора» (1930). В этой технической монографии Фишер утверждает, что если отбросить эволюционные теории, которые полагаются на гипотетические механизмы, контролирующие возникновение мутаций или направляющие ход эволюции, то
«...единственной сохранившейся теорией остается теория естественного отбора, и представляется невозможным избежать вывода, что если какое-либо эволюционное явление оказывается необъяснимым с точки зрения этой теории, то оно должно быть принято в настоящее время просто как один из фактов, который при нынешнем состоянии знаний кажется необъяснимым».
Таким образом, естественный отбор побеждает по умолчанию, и теория, по сути, не поддается фальсификации, поскольку никакие противоположные доказательства не могут быть восприняты как опровергающие ее. К сожалению, научные теории утверждаются не по умолчанию, а при наличии положительных доказательств в их пользу. А этого у Фишера было не больше, чем у Вейсмана до него.
Идеологические маркеры границ
Природа дарвинизма проявляется и в преобладании в научной литературе таких «религиозных» терминов, как ортодоксия, ересь, богохульство и догма. Такие термины, как ортодоксия и ересь, появились в первые века христианства, когда церковные общины, придерживавшиеся разных взглядов на природу Иисуса, выясняли истину между собой. Верования, принятые одной группой, стали называться в ней ортодоксальными, в то время как иные идеи клеймились как ересь. Даже во времена Реформации взгляды Мартина Лютера могли быть заклеймены как еретические Римо-католической церковью, в то время как для миллионов лютеран они стали ортодоксальными. Эти термины стали идеологическими пограничными маркерами. Поэтому очень показательно, когда они встречаются в «научной» литературе.
Например, в 1988 году Джон Кэрнс, Джулия Овербо и Стивен Миллер, исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения, опубликовали работу, в которой якобы продемонстрировали направленную мутацию. Вскоре после этого Барри Холл опубликовал две работы, в которых якобы демонстрировался преднамеренный мутагенез. Случайный характер мутаций – основа дарвинской теории, якобы доказанная в 1943 году Сальвадором Лурией и Максом Дельбрюком в их знаменитом флуктуационном тесте [дарвинская теория естественного отбора, действующего на случайные мутации, применима как к бактериям, так и к более сложным организмам. За эту работу обоим ученым была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине 1969 года – прим. перев.]. А тут ее оспаривали уважаемые представители биологического истеблишмента. Этого нельзя было допустить.
В ответ на это британский генетик Невилл Саймондс, ссылаясь на результаты Холла, написал: «Объяснение, основанное на ортодоксальной точке зрения, состоит в том, что физиологические условия в старых колониях вызывают всплеск случайной активности транспозиции...» В ответ на работу Кэрнса Саймондс заметил: «На первый взгляд, это была вопиющая ересь – как может организм чувствовать свои потребности в определенной среде и затем мутировать в соответствии с ними?» По словам Саймондса, биологический истеблишмент рассматривал ламаркизм как богохульство. Ричард Ленски, в свою очередь, обвиняет Кэрнса в том, что он заложил основу для возвращения вредного ламаркизма в биологию. Но идея вредна только для тех, кто идеологически настроен против нее. Ученые должны быть открыты для поиска истины, куда бы она ни вела.
Ортодоксия и ересь
Резюмируя виды доказательств, которые потребуются для установления направленной мутации, Ленски заключает: «Когда такие доказательства будут собраны, мы поймем, должны ли мы (и насколько сильно) изменить нынешние догмы молекулярной и популяционной генетики». Совсем недавно Чарльз Баер в «Принстонском руководстве по эволюции» (2014), в ответ на возможность направленной мутации сказал бы, что остается неясным, отвечают ли бактерии на вызов с некоторой преднамеренностью или вызванное стрессом увеличение скорости мутаций является просто результатом функционирования больного организма на низком уровне, но «эволюционная ортодоксия предполагает последнее». И чтобы мы не забывали, Фрэнсис Крик первоначально провозгласил Центральную догму молекулярной биологии в 1957 году, отметив, что прямые доказательства этого ничтожно малы.
Допуская истинность естественного отбора в отсутствие доказательств или клеймя исследования, опровергающие дарвинизм, как еретические, богохульные или вредные, биологи-эволюционисты доказывают, что их основной мотив в отвержении и развенчании противоположных идей – сохранение определенной академической идентичности и статуса, считающихся ортодоксальными для них. Но ортодоксальность и ересь – это не синонимы истинного и ложного, и иногда истина может быть на стороне еретиков. Просто спросите Матти Лейсолу!