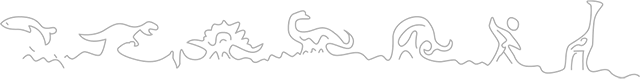Эволюционная теория как магическое мышление
Сам Чарльз Дарвин [...] однажды написал, что по гуманитарным соображениям не может понять, зачем кому-то вообще желать, чтобы христианство было истинным.1 В письме американскому академику Асе Грею Дарвин был более решительным, написав:
«Я не могу убедить себя в том, что благодетельный и вездесущий Бог создал бы Inchneumonidae с явным намерением, чтобы они питались в живых телах гусениц, или чтобы кошка играла с мышами. Не веря в это, я не вижу необходимости в убеждении, что глаз был специально создан».2
В этой непоправимо запутанной смеси биологического и теологического мышления Дарвин пытался убедить себя на неуместных основаниях морального чувства, что Бог не мог быть активным творцом. Нет нужды указывать, что этот вывод не является логическим умозаключением, а скорее реакцией на растущую волну религиозного недовольства в Великобритании середины викторианской эпохи, в которой Дарвин достиг зрелости.
Мальтузианская идея
Увлечение Дарвина мальтузианством, который он назвал естественным отбором, во многом объясняется желанием отделить развитие биосферы от идеи первопричины. Это проявилось в том, что, читая Мальтуса, он писал:
«Благоприятные вариации будут сохраняться, а неблагоприятные – уничтожаться. Результатом этого будет образование новых видов» (выделено автором).
Однако Мальтус ничего не писал ни об образовании новых видов, ни тем более об отстранении Бога от Его творения. Это нелепость, которую Дарвин приплел потому, что она соответствует тем недоказанным идеям о изменяемости видов, которые были впервые высказаны древнегреческими атомистами, а затем повторены его вольнодумным дедом Эразмом Дарвином.
Саморазвивающаяся биосфера
Зыбкость логической основы дарвинского мышления не осталась незамеченной. Представление о якобы неразумной, но удивительно независимой «саморазвивающейся» биосфере (как и постулат о самосоздающемся космосе) при беспристрастном рассмотрении оказывается достаточно сильным оскорблением логики, чтобы попытаться вывести ее из круга. Довольно недавняя публикация, принимающая этот вызов, появилась в виде книги Саймона Пауэлла «Незаконченное дело Дарвина: Самоорганизующийся интеллект природы» (Darwin’s Unfinished Business: The Self-Organizing Intelligence of Nature, Rochester: Park Street Press, 2012). Пауэлл охотно признает, что «беспечно заявлять, что эволюция просто происходит, что она включает в себя не более чем изменения в генофонде с течением времени, или что это просто происхождение с модификацией, на самом деле недостаточно хорошо. Природа взывает к более достойной оценке». (стp. 18)
Это действительно так, однако стремление Пауэлла приписать то, что он называет «био-логикой», природе, которую он теперь объявляет разумной, вряд ли можно назвать продвижением нового натуралистического объяснения или убедительным его утверждением, что «эта новая парадигма может быть предоставлена без обращения к сверхъестественным силам». (стp. 26)
Ведь при таком утверждении возникает вопрос о происхождении такого интеллекта. Древнегреческие философы аристотелевской традиции ссылались на необходимость наличия «nous» (разума) и «logos» (разумение или смысл), стоящих за всеми вещами. Если не придерживаться спинозовского смешения Бога и природы (Deus sive Natura), то теорию Пауэлла трудно принять.
В другом месте тома он объясняет, что его мышление во многом обязано интуиции Кристиана де Дюва о «космическом императиве» [жизнь неизбежно возникает в любом месте, где позволяют физические условия – прим. перев.] Однако сам де Дюв не смог преодолеть логическое препятствие, объяснив, как «императив» может возникнуть сам по себе (не прибегая к понятию криптомагического автоматизма! [разновидность галлюцинаторно-параноидного синдрома – прим. перев.]). Поэтому, как ни парадоксально, чистым результатом книги Пауэлла может быть только непреднамеренное предоставление дополнительных аргументов в пользу теистического объяснения конечной природы вещей.
Читая доблестные, но безуспешные попытки Саймона Пауэлла придумать корректирующее натуралистическое дополнение к Дарвину, изложенное в его книге, я вспомнил не что иное, как забавную притчу Томаса Вудворда [Томас Э. Вудворд – бывший профессор и заведующий кафедрой теологии в Тринити-колледже, Флорида, известный христианский апологет – прим.перв.] о группе ученых, застрявших в обширном подземном лабиринте, чье исследование целого ряда туннелей в поисках выхода буквально ни к чему их не привело.
Все эти туннели «естественного происхождения», увы, оказываются тупиковыми. Остался один туннель, но он обозначен как «разумная причина». Его старательно игнорируют, поскольку он, как утверждают ученые, попахивает религией, а не наукой. И вот заключенным остается коротать свои дни, «лишь нанося на карту, месяц за месяцем все более детально, план сложного тупика».3
Как и в случае с библейскими притчами Иисуса, эта притча полностью объяснима и не нуждается в дополнительных комментариях.
-
назад
См. The Autobiography of Charles Darwin, 1809-1882, edited by Nora Barlow (New York: Norton, 1958), pp. 85-96.

-
назад
The Correspondence of Charles Darwin (Cambridge: CUP, 1985), volume 8, p. 224.

-
назад
Thomas Woodward, Darwin Strikes Back: Defending the Science of Intelligent design (Grand Rapids, MI, 2006), p. 134.