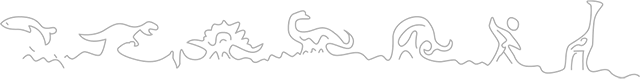Регуляторные сети генов развития – непреодолимое препятствие для эволюции
Макроэволюция требует, чтобы новые адаптации развития возникали посредством случайных мутаций, которые каким-то образом обеспечивают новую выгодную селекционную черту. Исследования в области генетики развития показали, что на начальных 
иерархических уровнях экспрессии генов практически невозможно благотворно изменить общую программу даже с помощью мутаций одного гена, не вызвав при этом серьезной катастрофы. Еще одним важным аспектом парадигмы генетики развития является парадокс консервативности последовательности белков среди факторов транскрипции верхнего уровня в сочетании с непереносимостью мутаций. Крайняя консервативность последовательности, казалось бы, подтверждает общее происхождение, однако отсутствие изменчивости отрицает фундаментальный механизм эволюционных изменений. В отличие от этого, модель разумного замысла предсказывает наличие общего кода, служащего общей цели в несвязанных между собой инженерных системах.
Начальные клетки эмбриона животных генетически идентичны и заранее снабжены материнской РНК, рибосомами и белками, которые контролируют формирование плана строения тела у эмбриона потомства.1 2 3 По мере того как клетки продолжают делиться в процессе эмбриогенеза, они преобразуются в различные типы клеток, в конечном итоге образуя кожу, мышцы, кости, соединительные ткани, нервные клетки и т. д. в процессе, называемом дифференциацией.
Эмбриогенез был впервые экспериментально исследован в XIX веке из-за его фундаментальной важности для всей биологии. Недавние обзоры показывают, что ооцит поляризуется посредством сложной и избыточной системы взаимодействий между цитоскелетом, несколькими сигнальными путями и межклеточной коммуникацией. Эти вопросы также представляют большой интерес для исследований в области вспомогательной репродукции и оценки качества эмбрионов. Точный момент и механизм, при котором клетки эмбриона млекопитающих становятся определенным типом клеток, представляют большой интерес для исследователей стволовых клеток, поскольку есть доказательства, что это происходит уже на второй или четвертой стадии развития зиготы.1 2 3 4
Каждая дифференцированная клетка использует определенные части своего генома, а именно те гены и регуляторные области, которые необходимы для построения каждого конкретного типа клеток, требуемых развивающимся эмбрионом. Гены и области генома, которые не требуются на каком-либо этапе развития, блокируются репрессивными состояниями хроматина, связанными с метилированием ДНК и модификациями гистонов.5
Существует сложная система контроля, которая заставляет эмбриональные клетки дифференцироваться, чтобы соответствующие части тела и органы развивались в нужном месте развивающегося организма в нужное время. Эта система должна работать на высоком уровне контроля, чтобы обеспечить развитие зиготы в полноценный функциональный организм, состоящий из многих миллиардов дифференцированных клеток, которые развиваются в функциональные органы и системы органов. Судьба отдельных клеток и линий определяется различными генетическими системами, включающими факторы транскрипции, регуляторные элементы генов (промоторы, энхансеры и сайленсеры), модифицирующие хроматин некодирующие РНК, а также модификации цитозина и гистонов, которые точно маркируют и динамически определяют его состояние в континууме развития.6 7 8
Многие генные продукты, включая белки и разнообразные некодирующие РНК, необходимы для развития специфического плана строения тела животного и его многочисленных структур и органов. Эти генные продукты передают информацию, которая влияет на то, как и когда дифференцируются отдельные клетки. Эти сигналы должны взаимодействовать друг с другом во время эмбрионального развития, чтобы регулировать как организацию, так и сборку клеток и тканей. Многие типы сигнальных молекул клетки, такие как гормоны и цитокины, также координируют и влияют на это клеточное развитие. Они образуют сети скоординированных систем, которые взаимодействуют аналогично тому, как компьютерные системы спроектированы для достижения функциональной сложности интегральных схем, аппаратного и программного обеспечения.8
Когда и как передаются сигнальные молекулы клеток, часто зависит как от того, какие сигналы от других молекул принимаются, так и от того, когда они принимаются. Эта система, в свою очередь, влияет на передачу еще других сигналов, которые должны быть правильно интегрированы и скоординированы, чтобы выполнить многочисленные специфические функции, критичные по времени, необходимые для развития организма от зиготы до взрослого состояния.
Такие специфические для организма и органелл генетические цепи также направляют процесс биоминерализации, в результате которого образуются скелеты и зубы, а также раковины черепах и моллюсков.9 Координация и интеграция множества сигнальных молекул обеспечивают правильную клеточную дифференциацию и организацию различных типов клеток во время развития конкретного плана строения тела животного, такого как млекопитающее или насекомое.
Модель генной регуляторной сети
Современный подход к пониманию биологии развития включает в себя концепции системной биологии и основан на идее, что генные регуляторные сети развития (dGRN) контролируют онтогенез плана строения организма. В этой парадигме dGRN состоят из Рисунок 1. Упрощенная иерархическая схема dGRN. Крупные серые узлы представляют факторы транскрипции (TF), а их мишени представлены маленькими серыми узлами. Связи (линии) представляют регуляцию генов-мишеней TF. Связи между TF выделены жирным шрифтом. TF обычно регулируют несколько генов-мишеней и сами могут регулироваться несколькими TF. Узлы с большим количеством связей часто называют хабами. Три уровня пытаются передать иерархические концепции dGRN, описанные в тексте. TF верхнего уровня влияют на большинство других модулей в сети и обычно связаны с инициированием подсхем и каскадов. Нижний уровень содержит гены, расположенные ниже по потоку на конце каскада, которые обычно функционируют более специфично в дифференцировке, а также, как правило, являются теми, которые специфически участвуют в фенотипической изменчивости. факторов транскрипции и регуляторных модулей (например, энхансеров), которые контролируют пространственную и временную экспрессию генов.10 11 12 13 14 На самом деле сигнальные пути внутри клеток и между ними служат связующим звеном между подцепями в dGRN.10 Эпигенетические механизмы, которые модифицируют структуру хроматина и регулируют экспрессию генов, также непосредственно участвуют в контроле активности dGRN.6 7 При моделировании этих непостижимо сложных систем светское научное сообщество обычно определяет dGRN только как состоящие из факторов транскрипции и их регуляторных модулей.10 13 14
Рисунок 1. Упрощенная иерархическая схема dGRN. Крупные серые узлы представляют факторы транскрипции (TF), а их мишени представлены маленькими серыми узлами. Связи (линии) представляют регуляцию генов-мишеней TF. Связи между TF выделены жирным шрифтом. TF обычно регулируют несколько генов-мишеней и сами могут регулироваться несколькими TF. Узлы с большим количеством связей часто называют хабами. Три уровня пытаются передать иерархические концепции dGRN, описанные в тексте. TF верхнего уровня влияют на большинство других модулей в сети и обычно связаны с инициированием подсхем и каскадов. Нижний уровень содержит гены, расположенные ниже по потоку на конце каскада, которые обычно функционируют более специфично в дифференцировке, а также, как правило, являются теми, которые специфически участвуют в фенотипической изменчивости. факторов транскрипции и регуляторных модулей (например, энхансеров), которые контролируют пространственную и временную экспрессию генов.10 11 12 13 14 На самом деле сигнальные пути внутри клеток и между ними служат связующим звеном между подцепями в dGRN.10 Эпигенетические механизмы, которые модифицируют структуру хроматина и регулируют экспрессию генов, также непосредственно участвуют в контроле активности dGRN.6 7 При моделировании этих непостижимо сложных систем светское научное сообщество обычно определяет dGRN только как состоящие из факторов транскрипции и их регуляторных модулей.10 13 14
Пионерами в области dGRN были два ныне покойных ученых из Калифорнийского технологического института – Эрик Дэвидсон и Рой Бриттен. Их работа над сетями регуляции генов изменила парадигму и оказала огромное влияние на многие области биологии. Их новаторские идеи были впервые изложены в нескольких теоретических работах, опубликованных в 1969–1971 годах.15 16 17 Чтобы объяснить развитие многоклеточных организмов, они сформулировали теорию, в которой предложили модель управления генами развития с помощью регуляторных последовательностей, обнаруженных в областях генома, содержащих высококопийную ДНК [ДНК-последовательности, которые представлены множеством копий в геноме клетки – прим. перв.], на основе ранних наблюдений за сложностью последовательностей ДНК в исследованиях кинетики реассоциации [метод, используемый для измерения скорости, с которой одноцепочечные молекулы ДНК объединяются с образованием двухцепочечной ДНК – прим. перев.]. Предполагалось, что генетический материал содержался в низкокопийных последовательностях, окруженных огромным количеством от умеренно- до высокоповторяющихся последовательностей. Таким образом, логичным выводом было то, что более высокоповторяющиеся последовательности формировали контролирующую генетическую матрицу, управляющую кодирующими белки генами во время развития.
После этих первых лет Дэвидсон и другие ученые продолжили более полное изучение природы dGRN с помощью современных инструментов молекулярной биологии и, в конечном итоге, геномики, что привело к множеству интересных открытий в первом десятилетии XXI века.
Общая идея, вытекающая из последних исследований dGRN на различных модельных организмах, заключается в том, что dGRN имеет иерархическую структуру и может быть представлена в очень упрощенном виде, если рассматривать факторы транскрипции (TF) как узлы.14 18 Таким образом, dGRN состоит из трех последовательных слоев или категорий узлов, как показано на рисунке 1. TF на самых верхних уровнях (ядра) являются общими активаторами и участвуют в запуске общих регуляторных каскадов. TF, составляющие средние узлы, координируют транскрипцию многих генов в сочетании с другими TF и в основном участвуют в активации или подавлении генов, связанных с ростом, миграцией клеток, формой, адгезией и эластичностью. Узлы на самых нижних или самых внешних уровнях считаются периферийными и, как правило, указывают на последующую дифференциацию развития и большую часть фенотипических вариаций, которые мы наблюдаем среди видов растений и животных. Например, у людей генетическая изменчивость в периферийных узлах связана с цветом кожи, цветом глаз, ростом, особенностями волос и т. д.
В целом, TF, связанные с верхними узлами, как правило, имеют более высокую степень сходства в последовательности белков между различными таксонами, чем TF, расположенные на периферии. Кроме того, общий набор TF верхнего уровня (с небольшими отклонениями) в любом данном организме можно найти в наиболее предположительно базовых позициях в предполагаемом эволюционном древе жизни.19 20 Таким образом, информационная сложность этой системы и ее наиболее базовых компонентов внезапно появилась в схеме жизни и, по мнению эволюционистов, была ответственна за удивительный всплеск планов строения тела и существ, обнаруженных в так называемом Кембрийском взрыве.21 22 23
Однако это сходство или консервативность последовательностей среди TF из узлов верхнего уровня ядра по всему спектру жизни не приносит эволюционистам особого утешения. Главная проблема для эволюции заключается в том, что TF как в узлах верхнего, так и среднего уровня обладают высокой устойчивостью к мутациям или нарушениям их экспрессии. Из-за обширной иерархической взаимосвязанности, если происходит изменение в TF, который формирует эмбрион, это изменение влияет на все нижестоящие связи, приводя к серьезным проблемам развития и, как правило, к летальному исходу. Хотя крайняя консервативность последовательности этих белков может казаться подтверждением концепции макроэволюционного общего происхождения, поскольку ранние фазы развития в значительной степени зависят от установления определенных паттернов экспрессии, очень небольшие изменения допускаются.
Также интересно отметить, что биологи, занимающиеся эволюционной биологией развития, используют ту же терминологию, что и для описания искусственных компьютерных систем, но отрицают, что они были разработаны разумно. Ниже приводится выдержка из недавнего обзора 2017 года, в котором автор заявляет:
«Мы предположили, что GRN состоят из четырех различных компонентов: (1) рекурсивно соединенных подсхем генов, ответственных за формирование частей развивающегося эмбриона, которые мы описали как ядра; (2) небольшие подсхемы, которые легко кооптируются для выполнения определенных функций развития (таких как Notch), которые мы назвали «плагинами»; (3) переключатели, которые активировали или деактивировали определенные подсхемы, которые действовали как переключатели ввода/вывода (I/O) в GRN; и (4) группы генов дифференцировки ниже по потоку».24
Рекурсивно связанные ядра в dGRN элегантно и последовательно определяют пространственные области конкретных регионов в развивающемся эмбрионе. Удивительно, но в то время как подсхемы конкретных наборов генов не используются повторно в других частях программы развития, отдельные гены на уровне ядра сами по себе гениально задействуются повторно для других задач. И в противоположность эволюционной теории, как только путь установлен на ранней стадии развития, вся система упорно сопротивляется мутационным изменениям. Обширные исследования цепей развития морского ежа показали насколько строго контролируется и упорядочен этот процесс, и «отключение любой из этих подцепей приводит к некоторым аномалиям развития».25 Последовательности развития, однажды пройденные, блокируются, чтобы они не изменялись впоследствии. Эмбрионы требуют специфических для эмбрионов систем контроля, а взрослые особи – специфических для взрослых систем контроля.
Создание новых конструкций путем мутаций
Чтобы создать принципиально новую конструкцию животного на основе уже существующей конструкции путем мутаций и отбора, необходимо внести многочисленные серьезные изменения в существующую сеть регуляции генов развития, которая формируется на очень ранней стадии зиготы. Кроме того, исследования биологов развития показали, что для создания новой конструкции животного потребуются тысячи скоординированных мутаций, однако даже малейшее изменение в одном или нескольких генах или их регуляторных последовательностях неизбежно приводит к катастрофическим последствиям.
Как документально подтвердил Дэвидсон, dGRN, регулирующий развитие плана строения тела, «очень невосприимчив к изменениям» и обычно приводит к «катастрофической потере части тела или полной потере жизнеспособности».12 Это наблюдаемое последствие практически всегда наступает, если нарушается работа даже одной подсхемы dGRN. Поскольку большинство этих изменений всегда «катастрофически плохие, гибкость минимальна, а поскольку все подсхемы взаимосвязаны... есть только один способ, как все может работать. И действительно, эмбрионы каждого вида могут развиваться только одним способом».12
В своей книге сторонник Разумного замысла Стивен Мейер отметил, что «работа Дэвидсона подчеркивает глубокое противоречие между неодарвинским объяснением того, как строятся новые планы строения тела животных, и одним из самых основных принципов инженерии – принципом ограничений».26
В результате «чем более функционально интегрирована система, тем сложнее изменить любую ее часть без повреждения или разрушения системы в целом».26 Поскольку эта система регуляции генов контролирует развитие плана строения тела животных столь тонко интегрированным образом, любые значительные изменения в ее сетях регуляции генов неизбежно повреждают или разрушают развивающееся животное. Этот доказанный факт создает серьезные проблемы для эволюции новых планов строения тела животных и новых dGRN, необходимых для их создания, препятствуя постепенной эволюции посредством мутаций и отбора из уже существующего плана строения тела и набора dGRN.
Биологи развития открыто признают эти явные проблемы для стандартного эволюционного синтеза. В своей работе Дэвидсон отмечает, что неодарвинская эволюционная теория ошибочно предполагает, что все микроэволюционные процессы приравниваются к макроэволюционным механизмам, что приводит к ложному выводу о том, что «эволюция ферментов или цвета цветов может быть использована в качестве текущих прокси для изучения эволюции плана строения организма».12 Типичные эволюционные исследовательские программы включают изучение генетических вариаций внутри вида или рода, включая взаимно скрещивающиеся естественные популяции или популяции из контролируемых скрещиваний. С точки зрения системной биологии развития, гены или регуляторные особенности, участвующие в такой изменчивости, находятся на периферийных узлах и не объясняют новые планы строения тела, связанные с макроэволюцией. Дэвидсон отмечает, что стандартный эволюционный синтез «ошибочно предполагает, что изменение кодирующей последовательности белка является основной причиной изменения программы развития; и она [также] ошибочно предполагает, что эволюционные изменения в морфологии плана строения тела происходят в результате непрерывного процесса».12 Дэвидсон также справедливо отмечает, что «эти предположения в основном являются контрфактуальными», поскольку «неодарвинский синтез, из которого проистекают эти идеи, был домолекулярной биологической смесью, сосредоточенной на популяционной генетике и естественной истории адаптации».12 Неодарвинизм в любой форме не предоставляет механистических средств изменения геномных регуляторных систем, которые управляют эмбриональным развитием плана строения тела. Чередование процесса периферической дифференцировки, связанного с наблюдаемой изменчивостью, – это совершенно иной сценарий, чем создание новой формы животной жизни путем изменения фундаментальной структуры устойчивой dGRN.
Является ли сальтационная эволюция ответом?
Интересной тенденцией среди биологов, занимающихся вопросами развития, является то, что из-за серьезных проблем, которые представляет стабильность структуры и функции dGRN для стандартного неодарвинизма (современной синтетической парадигмы), многие склоняются к оптимистичному сценарию эволюции типа «обнадёживающего урода» («Hopeful Monster» hypothesis). Эта идея зародилась задолго до эры геномики и молекулярной биологии в трудах Рихарда Гольдшмидта, написанных в период с 1900 по 1958 год.27 Он опередил свое время, продвигая концепцию физиологической генетики, в которой особое внимание уделялось динамике, связанной с продуктами генов, такими как ферменты, гормоны или индуцирующие вещества. Он также считал, что концепция генов как дискретных единиц не была столь однозначной, как полагали ведущие дарвинисты того времени. Что наиболее важно, он предложил, что для правильного понимания эволюции она должна быть напрямую связана с процессами развития, причем Рисунок 2. Мутации в гомеозисных генах развития высшего уровня, участвующих в формировании эмбриона, приводят к неправильному расположению частей тела, что ярко продемонстрировано на примере Drosophila (плодовая муха). На верхней панели показаны ноги, растущие на месте антенн. На нижней панели показан дополнительный сегмент брюшка с дополнительным набором крыльев. Поскольку у четырехкрылого мутанта отсутствует жужжальце (орган, участвующий в стабилизации полета), эти аномалии не позволяют ему летать. Такие мутации в конечном итоге приводят к летальному исходу. ключевыми элементами являются время и количество продукта гена.
Рисунок 2. Мутации в гомеозисных генах развития высшего уровня, участвующих в формировании эмбриона, приводят к неправильному расположению частей тела, что ярко продемонстрировано на примере Drosophila (плодовая муха). На верхней панели показаны ноги, растущие на месте антенн. На нижней панели показан дополнительный сегмент брюшка с дополнительным набором крыльев. Поскольку у четырехкрылого мутанта отсутствует жужжальце (орган, участвующий в стабилизации полета), эти аномалии не позволяют ему летать. Такие мутации в конечном итоге приводят к летальному исходу. ключевыми элементами являются время и количество продукта гена.
Гольдшмидт проницательно полагал, что «микроэволюционные» исследования, которые лишь изучали распределение вариаций в пределах скрещивающихся таксонов, не давали ответов на более важные вопросы о разрывах и непреодолимых пробелах, связанных с макроэволюцией. Гарвардский палеонтолог Стивен Гулд также знал, что это правда, поскольку в палеонтологической летописи явно прослеживается разрыв между формами животных. Фактически, идеи Гольдшмидта были возрождены Гулдом. В статье 1977 года под названием «Возвращение обнадеживающих уродов» Гулд заявил, что «как дарвинист, я хочу защитить постулат Гольдшмидта о том, что макроэволюция – это не просто экстраполяция микроэволюции, и что крупные структурные переходы могут происходить быстро, без плавной серии промежуточных стадий».28
Эти идеи, первоначально выдвинутые Гольдшмидтом, а затем возрожденные Гулдом, изначально основывались на гомеозисных мутациях, наблюдаемых в генах развития плодовой мухи, которые приводили к появлению четырех крыльев вместо двух и развитию ног вместо антенн (рисунок 2). Конечно, это пагубные эффекты, не приносящие мухе никакой пользы. Эти генетические аномалии вызывают смещение частей тела из-за мутаций в ключевых генах, участвующих в формировании эмбриона.29
Современные биологи развития, как правило, по-прежнему придерживаются формы скачкообразной (сальтационной) макроэволюции из-за присущих эволюционным процессам проблем, связанных с мутациями, и повсеместного отсутствия свидетельств непрерывности ископаемых остатков. Однако в настоящее время они выдвигают предположение, что сам эволюционный механизм связан с изменениями в регуляторной структуре dGRN, а не с мутациями на уровне ядра или в самих генах основных факторов транскрипции.10 11 [30]
Поскольку эти внутренние узлы в dGRN настолько невосприимчивы к изменениям, считается, что каким-то образом подсхемы в dGRN были кооптированы, перепрофилированы или, как говорят некоторые, «переподключены» для создания новых, сильно отличающихся фенотипов.31 32 Конечно, это никогда не наблюдалось на уровне, необходимом для объяснения крупных макроэволюционных изменений – это лишь обнадеживающее предположение. Было замечено, что изменение последовательности регуляторов развития, особенно энхансеров, способствует дифференциации паттернов периферической экспрессии генов, связанных с фенотипической изменчивостью внутри рода или вида.33 Однако никогда не было показано, что это происходит при перестройке внутренних узлов dGRN с целью создания принципиально нового или иного типа существа, необходимого для объяснения макроэволюции. Кроме того, даже если бы подсхемы развития могли каким-то образом быть кооптированы, перепрофилированы или переподключены для стимулирования эволюции, это не объясняет, как и где возникла исходная информация о развитии. С практической точки зрения, биологи развития еще не предложили жизнеспособного механизма для возникновения сальтационной эволюции.
Учитывая взаимодействие и сложность dGRN, одним из немногих исследователей, который занялся решением этой загадки развития, является Майкл Линч. Как и его коллеги по генетике развития, Линч признает, что современный дарвинский синтез не предлагает достоверного решения.34 Он заявляет: «Хотя многие исследователи предполагают, что общие черты генетических сетей формируются под воздействием естественного отбора, формального доказательства адаптивного происхождения какой-либо генетической сети не существует», и «механизмы, с помощью которых генетические сети устанавливаются в процессе эволюции, далеко не ясны».34 Так какова же альтернативная модель, предложенная Линчем, которая могла бы объяснить возникновение принципиально новых сложных генетических сетей, способствующих эволюции? Удивительно, но он выдвигает нейтральную эволюционную модель в широком масштабе, в которой геномы и их сложные взаимозависимые сети стохастически эволюционируют посредством мутаций и случайного генетического дрейфа. Линч утверждает:
«… многие качественные особенности известных транскрипционных сетей могут легко возникать в результате неадаптивных процессов генетического дрейфа, мутации и рекомбинации, что вызывает вопросы о том, является ли естественный отбор необходимым или даже достаточным условием для возникновения многих аспектов топологии генных сетей».34
Разумеется, идеи Линча являются чистым размышлением (speculation), основанным на надеждах, а многочисленные проблемы нейтральной модели эволюции уже подробно обсуждались ранее.35 36 37
Сальтационная гиперэволюция в креационной науке?
Надежда на эволюцию «обнадёживающих уродов» – это не только поле деятельности светских генетиков развития. Удивительно, но недавно в сообществе креационистов-младоземельцев была предложена форма быстрой скачкообразной эволюции, имеющая прямое отношение к нашему обсуждению dGRN.38 Основа этой идеи проистекает из признания некоторыми геологами того факта, что стратиграфическая граница, отмечающая конец Всемирного потопа из Книги Бытия, находится в верхней части мелового периода. Это становится проблематичным, поскольку большинство окаменелостей млекопитающих находятся выше этой границы в палеогене и неогене. Таким образом, считается, что группы млекопитающих, найденные в этих отложениях, были результатом диверсификации в стиле прерывистого равновесия от ограниченного числа групп млекопитающих на ковчеге, которые затем были несколько «чудесным образом» погребены в локальных водных катастрофах после Потопа по всему миру в течение короткого промежутка времени всего в несколько сотен лет. Курт Уайз, палеонтолог-креационист и бывший аспирант эволюциониста Стивена Гулда, пропагандирующего сальтационную теорию, является ведущим сторонником этой идеи и заявляет, что это «предполагает наличие удивительно полной палеонтологической летописи после Потопа, с большинством биостратиграфических пробелов, вероятно, не превышающих десятилетий по длине».39 Как и его светские коллеги, Уайз не может указать никакого механизма, который бы подкреплял его идеи, и фактически продвигает более быструю форму гиперэволюции, которую даже эволюционисты считают заслуживающей доверие. Эволюционист из Университета Акрона и ярый критик креационистов Джоэл Дафф заявляет:
«Курт Уайз взял гиперэволюционную модель быстрого видообразования молодой Земли, объясняющую происхождение биологического разнообразия, и довел ее почти до логического завершения. В соответствии со своими представлениями о возможном происхождении китов от ходячих предков, он относит тюленей и морских львов вместе с медведями к животным, имеющим общего предка на ковчеге».40
Хотя это и не является целью данной статьи, во многих предыдущих работах подробно обсуждались геологические и палеонтологические недостатки установления границы между допотопным и послепотопным периодами в меловом-палеогеновом периоде.41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Эти усилия подкрепляются недавним исследовательским отчетом геолога Тима Клэри, в котором использованы крупномасштабные глобальные стратиграфические геологические данные.52 Эти всеобъемлющие результаты «в совокупности устанавливают, что граница между Потопом и постпотопным периодом должна была быть гораздо выше в кайнозойских горных породах».52 Как отмечает Клэри, «сторонники теории о том, что граница K-Pg является концом Потопа, загнали себя в угол, отдав себе всего около 100 лет на отложение всей третичной системы в результате серии локальных катастроф». И «именно поэтому Уайз выступает за эволюционный скачок, чтобы объяснить записи о млекопитающих в третичном периоде. Он вынужден это делать. Как еще можно объяснить записи о млекопитающих в третичном периоде?» Очевидно, что ни выводы о сложности и стабильности dGRN, ни глобальные геологические записи не поддерживают утверждения тех, кто пытается необоснованно интегрировать эволюцию Гулда в креационную модель.
Увеличение сложности развития с помощью «eco-evo-devo»
Организмы живут в динамичном мире, где симбиоз и фенотипическая пластичность в настоящее время являются правилом, а не исключением.53 К сожалению для эволюционистов, эти новые уровни сложности вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Организмы не только зависят от своих внутренних dGRN для развития, но также существуют слои интерактивной сложности, связанные с другими организмами и сложными сетями сенсорных входов и ответов. Светские биологи теперь называют эту новую и довольно обширную область экологическим эволюционным развитием или eco-evo-devo.53 54
Пластичность развития – это способность эмбриона приспосабливаться и изменять свою форму на основе сигналов окружающей среды, обнаруживаемых сложными сенсорными сетями и адаптивными программами, встроенными в организм. Один геном может обеспечить спецификации дифференцировки для создания различных адаптивных форм, физиологических характеристик и фенотипов. Благодаря эпигенетическим модификациям генома многие из этих черт могут также наследоваться несколькими последующими поколениями, что дает потомству быстрый путь к адаптации.55
Непосредственно связанным с концепцией, согласно которой организм нуждается во внешних стимулах для развития и динамично реагирует на них, является концепция симбиоза развития – гармоничного процесса, требующего симбиотического взаимодействия. С практической точки зрения, в природе не существует безмикробных организмов, и многие из этих тесных взаимодействий необходимы для развития. Например, семена орхидей не прорастут без определенного вида грибов.56 Для правильного развития оси ориентации у нематод необходимо присутствие определенного вида бактерий.57 Кишечник млекопитающих и рыб нуждается в кишечной микробиоте для полноценного развития.58 59 60 Если сложности развития, присущие dGRN в геноме организма, не были достаточными, чтобы полностью опровергнуть эволюцию, то тот факт, что организмы нуждаются в других организмах (имеющих свои собственные dGRN) для правильного развития, еще глубже погружает концепцию макроэволюции в бездну нереальности.
Резюме
В основе достоверности моделей макроэволюции лежит то, как развиваются организмы. Любая форма дарвинской эволюции требует, чтобы новые адаптации в развитии возникали в результате случайных мутаций, которые каким-то образом обеспечивают новую выгодную селекционную черту. Десятилетия исследований в области генетики развития широкого спектра организмов подробно задокументировали тот факт, что как только эмбрион начинает развиваться по определенной траектории, мутации в генах транскрипционных факторов верхнего и среднего уровня в иерархической модели регуляции, описанной Дэвидсоном, приводят к фатальной катастрофе в программе. Это препятствие, не допускающее мутаций, представляет собой полный барьер для современной дарвинской синтезы, нейтральной модели и сальтационной эволюции.
Еще одним важным аспектом парадигмы генетики развития является парадокс консервативной последовательности белков [хотя некоторые белки являются высококонсервативными у разных видов, регуляторные последовательности ДНК, которые их контролируют, часто сильно различаются – прим. перев.] среди факторов транскрипции верхнего уровня в сочетании с их непереносимостью мутаций. Это довольно сложная дилемма для эволюционистов – крайняя сохранность последовательности, казалось бы, подтверждает общее происхождение, но отсутствие мутабельности отрицает фундаментальное требование эволюционных изменений. Однако модель разумного замысла предсказывает, что общий код, служащий общей цели, будет обнаружен среди несвязанных между собой инженерных систем, созданных одним и тем же Творцом – точно так же, как мы находим его в искусственных системах.
-
назад
White, M.D. et al., Long-lived binding of sox2 to DNA predicts cell fate in the four-cell mouse embryo, Cell 165:75–87, 2016 | doi:10.1016/j.cell.2016.02.032.

-
назад
Wu, J. and Belmonte, J.C. I., The molecular harbingers of early mammalian embryo patterning, Cell 165:13–15, 2016 | doi:10.1016/j.cell.2016.03.005.

-
назад
Goolam, M. et al., Heterogeneity in oct4 and sox2 targets biases cell fate in 4-cell mouse embryos, Cell 165:61–74, 2016 | doi:10.1016/j.cell.2016.01.047.

-
назад
мSt Johnston, D. and Ahringer, J., Cell polarity in eggs and epithelia: parallels and diversity, Cell 141:757–774, 2010 | doi:10.1016/j.cell.2010.05.011.

-
назад
Gilbert, S.F., Developmental biology, 10th edn, Sinauer Associates, Sunderland, MA, 2014.

-
назад
Gaiti, F. et al., Landscape of histone modifications in a sponge reveals the origin of animal cis-regulatory complexity, Elife 6, 2017 | doi:10.7554/eLife.22194.

-
назад
Dambacher, S., Hahn, M., and Schotta, G., Epigenetic regulation of development by histone lysine methylation, Heredity (Edinb) 105:24–37, 2010 | doi:10.1038/hdy.2010.49.

-
назад
Peter, I.S. and Davidson, E.H., Genomic Control Process: Development and evolution, Academic Press, Cambridge, MA, 2015.

-
назад
Martik, M.L., Lyons, D.C. and McClay, D.R., Developmental gene regulatory networks in sea urchins and what we can learn from them, F1000Research:5:F1000 Faculty Rev-1203, 2016.

-
назад
Halfon, M.S., Perspectives on gene regulatory network evolution, Trends Genet. 33:436–447, 2017 | doi:10.1016/j.tig.2017.04.005.

-
назад
Peter, I.S. and Davidson, E.H., Evolution of gene regulatory networks controlling body plan development, Cell 144:970–985, 2011 | doi:10.1016/j.cell.2011.02.017.

-
назад
Davidson, E.H., Evolutionary bioscience as regulatory systems biology, Dev. Biol. 357:35–40, 2011 | doi:10.1016/j.ydbio.2011.02.004.

-
назад
Parfitt, D.E. and Shen, M.M., From blastocyst to gastrula: gene regulatory networks of embryonic stem cells and early mouse embryogenesis, Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci. 369, 2014 | doi:10.1098/rstb.2013.0542.

-
назад
Rebeiz, M., Patel, N.H., and Hinman, V.F., Unraveling the tangled skein: the evolution of transcriptional regulatory networks in development, Annu. Rev. Genomics Hum. Genet. 16:103–131, 2015 | doi:10.1146/annurev-genom-091212-153423.

-
назад
Britten, R.J. and Davidson, E.H., Gene regulation for higher cells: a theory, Science 165:349–357, 1969.

-
назад
Britten, R.J. and Davidson, E.H., Repetitive and non-repetitive DNA sequences and a speculation on the origins of evolutionary novelty, Q. Rev. Biol. 46:111–138, 1971.

-
назад
Rothenberg, E.V., Eric Davidson: steps to a gene regulatory network for development, Dev. Biol. 412:S7–19, 2016 | doi:10.1016/j.ydbio.2016.01.020.

-
назад
Nowick, K. and Stubbs, L., Lineage-specific transcription factors and the evolution of gene regulatory networks, Brief Funct. Genomics 9:65–78, 2010 | doi:10.1093/bfgp/elp056.

-
назад
Woltering, J.M. et al., Conservation and divergence of regulatory strategies at hox loci and the origin of tetrapod digits, PLoS Biol. 12:e1001773, 2014 | doi:10.1371/journal.pbio.1001773.

-
назад
Gehrke, A.R. et al., Deep conservation of wrist and digit enhancers in fish, PNAS 112:803–808, 2015 | doi:10.1073/pnas.1420208112.

-
назад
Nettle, D. and Bateson, M., Adaptive developmental plasticity: what is it, how can we recognize it and when can it evolve? Proc. Biol. Sci. 282:20151005, 2015 | doi:10.1098/rspb.2015.1005.

-
назад
Abbasi, A.A., Evolution of vertebrate appendicular structures: insight from genetic and palaeontological data, Dev. Dyn. 240:1005–1016, | doi:10.1002/dvdy.22572, 2011.

-
назад
Erwin, D.H., Was the Ediacaran–Cambrian radiation a unique evolutionary event? Paleobiology 41:1–15, 2015.

-
назад
Erwin, D.H., Eric davidson and deep time, Hist. Philos. Life Sci. 39:29, 2017 | doi:10.1007/s40656-017-0156-z.

-
назад
Davidson, E.H., The Regulatory Genome: Gene regulatory networks in development and evolution, Elsevier, Burlington, MA, 2006.

-
назад
Meyer, S.C., Darwin’s Doubt: The explosive origin of animal life and the case for Intelligent Design, HarperOne, San Francisco, CA, 2013.

-
назад
Dietrich, M.R., Reinventing Richard Goldschmidt: reputation, memory, and biography, J. Hist. Biol. 44:693–712, 2011 | doi:10.1007/s10739-011-9271-y.

-
назад
мGould, S.J., The return of hopeful monsters, Natural History 86:22–30, 1977.

-
назад
Maeda, R.K. and Karch, F., The abc of the bx-c: the bithorax complex explained, Development 133:1413–1422, 2006 | doi:10.1242/dev.02323.

-
назад
Davidson, E.H. and Erwin, D.H., Gene regulatory networks and the evolution of animal body plans, Science 311:796–800, 2006 | doi:10.1126/science.1113832.

-
назад
Erkenbrack, E.M. and Davidson, E.H., Evolutionary rewiring of gene regulatory network linkages at divergence of the echinoid subclasses, PNAS 112:E4075–4084, 2015 | doi:10.1073/pnas.1509845112.

-
назад
Israel, J.W. et al., Comparative developmental transcriptomics reveals rewiring of a highly conserved gene regulatory network during a major life history switch in the sea urchin genus Heliocidaris, PLoS Biol. 14:e1002391 | 2016doi:10.1371/journal.pbio.1002391.

-
назад
Rubinstein, M. and de Souza, F.S., Evolution of transcriptional enhancers and animal diversity, Philos. Trans. R. Soc. B. Biol. Sci. 368:20130017, 2013 | doi:10.1098/rstb.2013.0017.

-
назад
Lynch, M., The evolution of genetic networks by non-adaptive processes, Nat. Rev. Genet. 8:803–813, 2007 | doi:10.1038/nrg2192.

-
назад
Tomkins, J.P. and Bergman, J., Evolutionary molecular genetic clocks—a perpetual exercise in futility and failure, J. Creation 29:25–35, 2015.

-
назад
Carter, R., The neutral model of evolution and recent African origins, J. Creation 23:70–77, 2009.

-
назад
Tomkins, J.P. and Bergman, J., Neutral model, genetic drift and the Third Way—a synopsis of the self-inflicted demise of the evolutionary paradigm, J. Creation 31:94–102, 2017.

-
назад
Wise, K., Step-down saltational intrabaraminic diversifcation, J. Creation Theology and Science Series B: Life Sciences 7:1–9, 2017.

-
назад
Wise, K., Step-down saltational intrabaraminic diversification, J. Creation Theology and Science Series B: Life Sciences 7, 2017.

-
назад
Duff, J., Walking whales on board Noah’s Ark: the inevitable end-point of creationists’ post-flood hyper-speciation belief? 2017, thenaturalhistorian.com/2017/10/05/walking-whales-on-board-noahs-ark-the-inevitable-end-point-of-creationists-post-flood-hyper-speciation-belief/.

-
назад
Holt, R.D., Evidence for a late Cainozoic Flood/post-Flood boundary, J. Creation 10:128–167, 1996.

-
назад
Oard, M.J., Pediments formed by the Flood: Evidence for the Flood/post-Flood boundary in the Late Cenozoic, J. Creation 2:15–27, 2004.

-
назад
Oard, M.J., Is the K/T the post-Flood boundary?—part 1: introduction and the scale of sedimentary rocks, J. Creation 24:95–104, 2010.

-
назад
Oard, M.J., Is the K/T the post-Flood boundary?—part 2: paleoclimates and fossils, J. Creation 24:87–93, 2010.

-
назад
Oard, M.J., Is the K/T the post-Flood boundary?—part 3: volcanism and plate tectonics, J. Creation 25:57–62, 2011.

-
назад
Oard, M.J., Geology indicates the terrestrial Flood/post-Flood boundary is mostly in the late Cenozoic, J. Creation 27:119–127, 2013.

-
назад
Oard, M.J., Surficial continental erosion places the Flood/post-Flood boundary in the late Cenozoic, J. Creation 27:62–70, 2013.

-
назад
Clarey, T.L., The Ice Age as a mechanism for post-Flood dispersal, J. Creation 30:54–59, 2016.

-
назад
Oard, M.J., Flood processes into the Late Cenozoic: part 1—problems and parameters, J. Creation 30:1–7, 2016.

-
назад
Oard, M.J., Flood processes into the late Cenozoic: part 2—sedimentary rock evidence, J. Creation 30:1–9, 2016.

-
назад
Clarey, T.L. and Werner, D.J., The sedimentary record demonstrates minimal flooding of the continents during sauk deposition, Answers Research J. 10:271–283, 2017.

-
назад
Clarey, T.L., Local catastrophes or receding floodwater? Global geologic data that refute a k-pg (k-t) Flood/post-Flood boundary, CRSQ 54:100–119, 2017.

-
назад
Gilbert, S.F., Bosch, T.C., and Ledon-Rettig, C., Eco-evo-devo: developmental symbiosis and developmental plasticity as evolutionary agents, Nat. Rev. Genet. 16:611–622, 2015 | doi:10.1038/nrg3982.

-
назад
Abouheif, E. et al., Eco-evo-devo: the time has come, Adv. Exp. Med. Biol. 781:107–125, 2014 | doi:10.1007/978-94-007-7347-9_6.

-
назад
Schaefer, S. and Nadeau, J.H., The genetics of epigenetic inheritance: modes, molecules, and mechanisms, Q. Rev. Biol. 90:381–415, 2015.

-
назад
Stewart, S.L. and Kane, M.E., Symbiotic seed germination and evidence for in vitro mycobiont specificity in Spiranthes brevilabris (Orchidaceae) and its implications for species-level conservation, In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant 43:178–186, 2007.

-
назад
Landmann, F. et al., Co-evolution between an endosymbiont and its nematode host: Wolbachia asymmetric posterior localization and ap polarity establishment, PLoS Negl. Trop. Dis. 8:e3096, 2014 | doi:10.1371/journal.pntd.0003096.

-
назад
Stappenbeck, T.S., Hooper, L.V., and Gordon, J.I., Developmental regulation of intestinal angiogenesis by indigenous microbes via paneth cells, PNAS 99:15451–15455, 2002 | doi:10.1073/pnas.202604299.

-
назад
Hooper, L.V. and Gordon, J.I., Commensal host-bacterial relationships in the gut, Science 292:1115–1118, 2001.

-
назад
Rawls, J.F., Samuel, B.S., and Gordon, J.I., Gnotobiotic zebrafish reveal evolutionarily conserved responses to the gut microbiota, PNAS 101:4596–4601, 2004 | doi:10.1073/pnas.040070.