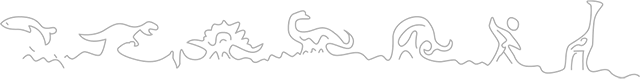Возвращаясь к «трем основным проблемам биологии»
[...] В течение последних 70 лет многие ожидали, что все три «основные проблемы биологии» Жана Ростана будут решены без привлечения концепции замысла. Однако в вопросе о происхождении жизни не было достигнуто никакого прогресса, гораздо меньше ученых теперь верят, что Дарвин объяснил эволюцию жизни, а теперь Ричард Стернберг, Брайан Миллер и другие показывают нам, что даже для объяснения третьей проблемы требуется концепция замысла.
Как спросил французский биолог Жан Ростан в своей книге «Можно ли изменить человека?» (Can Man be Modified?) (1956):
«Разве биологи не имеют права на небольшую самонадеянность, когда подводят итоги того, чего они достигли всего за полвека? Разве они не имеют оснований полагать, что для них станет возможным все, если они просто будут углублять уже проделанную работу и продолжать исследования по уже намеченным направлениям?
Но здесь мы должны напомнить себе, что наши успехи, какими бы удивительными они ни были, оставляют почти нетронутыми архисложные загадки самой жизни. Три основные проблемы биологии – проблема роста живого существа, проблема эволюции видов, проблема происхождения жизни – едва затронуты учеными. Мы имеем лишь очень смутное представление о том, как сложный организм может содержаться в зародыше; мы почти не имеем представления о том, как органические метаморфозы, которые, должно быть, привели к появлению человеческого вида из какого-то первоначального вируса, могли происходить в течение веков, и мы не имеем ни малейшего представления о том, как зародилась первая жизнь».
Ростан, «один из ведущих европейских биологов», согласно обложке его книги «Взгляд биолога» (A Biologist’s View), написал там, что «какими бы неясными ни казались мне причины эволюции, я ни на минуту не сомневаюсь, что они являются полностью естественными».
Спустя шестьдесят три года, остаются ли то, что он назвал тремя «основными проблемами» биологии, практически нерешенными?
Происхождение жизни
Мы все еще далеки от создания самовоспроизводящейся машины. Это по-прежнему чистая научная фантастика. Когда вы добавляете больше технологий в такую машину, чтобы приблизиться к цели воспроизводства, вы только сдвигаете цель, поскольку теперь у вас есть более сложная машина для воспроизводства. Итак, если мы, со всеми нашими передовыми технологиями, не имеем ни малейшего представления о том, как сконструировать самовоспроизводящуюся машину, как мы можем верить, что близки к пониманию того, как такая машина могла возникнуть по чистой случайности?
Эволюция жизни
Представьте, что мы смогли построить самовоспроизводящиеся машины, скажем, парк автомобилей, внутри которых находились полностью автоматизированные заводы по производству автомобилей, способные создавать новые автомобили – и не просто обычные новые автомобили, а новые автомобили, содержащие внутри себя автоматизированные заводы по производству автомобилей. Если бы мы оставили эти автомобили в покое и позволили им воспроизводить себя на протяжении многих поколений, есть ли вероятность, что в конечном итоге мы увидели бы значительные достижения благодаря естественному отбору в результате ошибок дупликации? Конечно, нет, весь процесс остановился бы через несколько поколений без умных людей, которые могли бы исправить неизбежно возникающие механические проблемы, задолго до того, как мы увидели бы ошибки дупликации, которые могли бы привести к прогрессу. Мы даже не можем спроектировать несамовоспроизводящиеся машины, которые могли бы функционировать бесконечно без технического обслуживания.
Проблема неуменьшаемой сложности приводится в качестве основного аргумента против дарвинского объяснения эволюции, но что, если мы обойдем эту проблему, оставив задачу отбора разумным людям, которые обладают даром предвидения и способны распознать будущий потенциал небольших, бесполезных мутаций, которые могут накопиться и превратиться в полезные новые особенности? Даже при таком искусственном отборе вредные ошибки воспроизводства, очевидно, по-прежнему будут преобладать над редкими полезными ошибками, и мы по-прежнему будем наблюдать, как наше стадо автомобилей быстро превращается в груды металлолома.
Мы настолько привыкли видеть, как все живые существа размножаются без значительной деградации, что принимаем эту необъяснимую способность как должное; но если бы мы видели, как размножаются созданные человеком машины, такие как автомобили, мы бы ожидали и наблюдали деволюцию, а не эволюцию, и это могло бы помочь нам увидеть, насколько неестественной на самом деле является способность живых видов сохранять свои сложные структуры из поколения в поколение. Именно благодаря этой неестественной способности у живых видов естественный отбор может казаться многим поверхностно правдоподобным, а искусственный отбор может действительно приводить к незначительным улучшениям. Но даже у живых видов естественный отбор случайных ошибок дупликации по-прежнему похож на любой другой известный природный процесс и по-прежнему приводит только к деволюции. [...]
Таким образом, мы даже не понимаем, как виды передают свои нынешние сложные структуры из поколения в поколение, не говоря уже о том, как они развивают более сложные структуры.
Рост
Это может показаться проблемой, в решении которой с 1956 года было достигнуто наибольшее прогресс. Мы не можем наблюдать за происхождением или эволюцией жизни в лаборатории, но мы можем наблюдать за ростом живых организмов и знаем, что по крайней мере часть информации, необходимой для этого, хранится в геноме. Но наблюдать за чем-то – не то же самое, что понимать, как это происходит. [Джонатан Бард из Оксфордского университета в журнале Cell Communication and Signaling пишет: «Эволюционный синтез, стандартная концепция XX века о том, как происходят эволюционные изменения, основана на отборе, наследственной фенотипической вариации и очень упрощенном представлении о генах. Поэтому она не может учесть два ключевых аспекта современных молекулярных знаний: во-первых, богатство геномной вариации, которое гораздо сложнее простой мутации, и, во-вторых, непрозрачную связь между генотипом и его результирующим фенотипом»]. Другими словами, «мы имеем лишь очень смутное представление о том, как сложный организм может содержаться в зародыше». Или, говоря иначе, о том, как генетика контролирует развитие, известно так мало, что генетики до сих пор не могут ответить на вопрос итальянского биолога Джузеппе Сермонти: «Почему муха не лошадь?».
Но чтобы в полной мере оценить, как далеко мы еще находимся от решения всех трех основных проблем биологии, вам нужно посмотретьна Youtube замечательное видео Йельского математика Александра Циараса (Alexander Tsiaras) «От зачатия до рождения – визуализация» (Conception to birth -- visualized), в котором исследуется таинственный, чудесный процесс зачатия, развития и рождения. «Как эти наборы инструкций не допускают ошибок, создавая то, что составляет нас?» – спрашивает Циарас. Как же действительно?