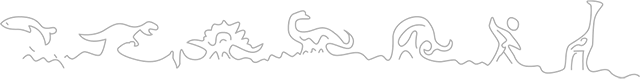Главные научные проблемы эволюции
Каковы основные научные проблемы эволюции?

В 1973 году биолог Теодосий Добжанский написал, что «ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции».1 В 1989 году биолог Ричард Докинз написал: «Можно с полной уверенностью сказать, что если вы встретите человека, который утверждает, что не верит в эволюцию, то этот человек невежественен, глуп или безумен (или порочен, но я бы не хотел об этом думать)».2
Но что такое эволюция?
Что такое эволюция?
Слово «эволюция» имеет множество значений. В одном смысле оно означает просто изменение во времени. В другом смысле оно относится к истории космоса, или прогрессу технологий, или развитию культуры. Ни один здравомыслящий человек не верит, что со временем ничего не меняется, или что у космоса, технологии и культуры нет истории. В этих смыслах эволюция не вызывает сомнений.
В биологии эволюция может означать тот факт, что многие ныне живущие растения и животные отличаются от тех, которые жили в прошлом. Она также может означать тот факт, что внутри существующих видов происходят незначительные изменения; мы видим такие изменения в наших собственных семьях. Но эти бесспорные значения биологической эволюции не были тем, что имели в виду Добжанский и Докинз, когда использовали это слово. Они имели в виду дарвинскую эволюцию.
Чарльз Дарвин назвал свою теорию происхождения с изменением, подразумевая под этим, что все живые существа произошли от одного или нескольких общих предков, живших в далеком прошлом. Затем эти предки были изменены в результате неуправляемых процессов, таких как небольшие вариации и естественный отбор (выживание сильнейших). Дарвин писал в «Происхождении видов»: «Я рассматриваю все существа не как творения, а как линейных потомков нескольких существ, живших очень давно», и что «естественный отбор был главным, но не исключительным средством модификации».3 Он также писал в своей «Автобиографии»: «В изменчивости органических существ и в действии естественного отбора, по-видимому, не больше замысла, чем в том, как дует ветер».4
В современной версии теории Дарвина, часто называемой неодарвинизмом, случайные мутации ДНК считаются основным источником новых вариаций. На протяжении всей этой главы я буду использовать эволюцию в значении неодарвинизма.
Что такое наука?
Как и эволюция, наука имеет несколько значений. В этой главе я буду использовать термин «наука» для обозначения эмпирической науки: поиск истины путем сравнения гипотез с доказательствами. Итак, вопрос: каковы основные проблемы с доказательствами неодарвинизма?
Следуя термину Дарвина «происхождение с изменением», я сначала рассмотрю доказательства происхождения (гипотеза о том, что все живые организмы произошли от общих предков). В частности, я сосредоточусь на гомологии, окаменелостях и молекулярной филогении. Затем я рассмотрю доказательства модификации (гипотеза о том, что организмы эволюционировали в результате строго неуправляемых природных процессов). Я сосредоточусь на естественном отборе, мутации и видообразовании (происхождении новых видов).
Гомология

Классически гомология означала сходство структуры и расположения: например, костей человеческой руки и крыла летучей мыши. Дарвин считал гомологию доказательством общего происхождения. Он писал в книге «О происхождении видов»,
«Что может быть любопытнее того, что рука человека, сформированная для хватания, рука крота для рытья, нога лошади, плавник морской свиньи и крыло летучей мыши – все они должны быть построены по одному и тому же образцу и включать одни и те же кости, находящиеся в одинаковых взаимных положениях».5
Дарвин считал это необъяснимым, если все виды были созданы по отдельности: «При обычном взгляде на независимое создание каждого существа мы можем только сказать, что так оно и есть, – что Творцу было угодно создать каждое животное и растение».6 (В четвертом издании «Происхождения видов» Дарвин добавил: «Но это не научное объяснение».7) Вместо этого он утверждал, что гомологии объясняются его гипотезой происхождения с изменениями:
«Если предположить, что у древнего прародителя, архетипа, как его можно назвать, всех млекопитающих, конечности были построены по существующему общему образцу, для какой бы цели они ни служили, мы сразу же поймем, что гомологичное строение конечностей характерно для всего класса».8
Глаза, позвоночник и многое другое
Тем не менее, животные и растения обладают многими признаками, схожими по структуре и расположению, но явно не произошли от общего предка с такими признаками. Глаз позвоночного и глаз кальмара или осьминога удивительно похожи, но никто не думает, что они были унаследованы от общего предка, обладавшего глазом. Позвоночники австралийских ехидн и североамериканских дикобразов удивительно похожи, однако ехидны рожают, откладывая яйца, а дикобразы рождают живых детенышей, вынашивая их в утробе матери, как люди. Это фундаментальное различие означает, что ехидны и дикобразы имели совершенно разное происхождение, и они не унаследовали свои шипы от общего колючего предка. Складки кожи между передними и задними конечностями австралийского летучего кускуса и североамериканской белки-летяги очень похожи. Однако первые рожают детенышей, которые для завершения развития заползают в сумку, как кенгуру, а вторые вынашивают плод в утробе матери, как люди. Опять же, они имели совершенно разное происхождение.9
Примеры также включают ловушки с липким нектаром у плотоядных растений, которые, очевидно, возникли отдельно шесть раз.10 Растения рода эуфорбия в Африке имеют утолщенные, мясистые стебли для хранения воды и колючие шипы вместо листьев, как у растений семейства кактусовых в Америке, однако они возникли отдельно в совершенно разных условиях.11
За исключением случаев, когда это не так
Итак, сходство структуры и положения является доказательством общего происхождения, за исключением тех случаев, когда это не так. Современные биологи называют сходство, не обусловленное общим предком, конвергенцией, а гомологию они переосмыслили как сходство, обусловленное общим предком. Эволюционный биолог из Беркли Дэвид Уэйк написал в 1999 году: «Общие предки – это все, что есть гомология».12 Но, по словам философа биологии Рональда Брэди, «превращая наше объяснение [общие предки] в определение объясняемого условия [гомология], мы выражаем не научную гипотезу, а веру».13
Круговые рассуждения
Более того, как только гомология определяется в терминах общего происхождения, она не может логически использоваться в качестве доказательства общего происхождения. Это значит рассуждать по кругу: откуда мы знаем, что признаки A и B произошли от общего предка? Потому что они гомологичны. Откуда мы знаем, что A и B гомологичны? Потому что они произошли от общего предка.14
Другая проблема с использованием гомологии в качестве доказательства общего происхождения заключается в том, что примеры конвергенции широко распространены. Кембриджский палеобиолог Саймон Конвей Моррис в 2003 году написал, что «конвергенция повсеместна». Он заключил: «Не только Вселенная странным образом соответствует своему назначению, но и... способность жизни ориентироваться в своих решениях».15 Таким образом, сходство в структуре и расположении не является однозначным доказательством аспекта эволюции, связанного с общим происхождением.
Окаменелости

Окаменелость – это «остаток, отпечаток или след организма прошлых геологических эпох».16 Изучение окаменелостей (палеонтология) началось задолго до Дарвина. Они позволяют нам лучше всего понять историю жизни до наших дней. Предполагая, что окаменелости в одном слое породы моложе окаменелостей в слоях под ним, палеонтологи до Дарвина уже группировали их в соответствии с относительным возрастом. Результат известен как летопись окаменелостей.
Дарвин так писал об ископаемых в книге «О происхождении видов»:
«По теории естественного отбора все живущие виды были связаны с родительскими видами каждого рода посредством различий, не больших, чем мы видим между разновидностями одного и того же вида в настоящее время; а эти родительские виды, ныне в целом вымершие, в свою очередь были аналогичным образом связаны с более древними видами; и так далее в обратном порядке, всегда сходясь к общему предку каждого большого класса. Таким образом, количество промежуточных и переходных звеньев между всеми живыми и вымершими видами должно было быть немыслимо велико».17
Но «немыслимо огромное» количество переходных звеньев, постулированных Дарвином, так и не было найдено. Действительно, одной из наиболее ярких особенностей ископаемых является Кембрийский взрыв, когда основные группы животных (называемые типами) появились примерно в одно и то же геологическое время в период, называемый кембрийским, полностью сформированными и без ископаемых доказательств того, что они произошли от общего предка.
Серьезная проблема для теории
Дарвин знал об этих доказательствах в 1859 году и признавал, что это серьезная проблема, которая «действительно может быть приведена в качестве веского аргумента» против его теории.18 Он надеялся, что будущие открытия окаменелостей помогут заполнить многие пробелы, но более 150 лет дополнительных находок окаменелостей только усугубили проблему. В 1991 году группа палеонтологов пришла к выводу, что Кембрийский взрыв «был еще более резким и масштабным, чем предполагалось ранее».19
Внезапность, проявившаяся во время Кембрийского взрыва, можно наблюдать и в более мелких масштабах на протяжении всей летописи окаменелостей. Виды, как правило, появляются в окаменелостях внезапно, а затем сохраняются неизменными в течение некоторого периода времени (это явление называется стазисом), прежде чем исчезнуть. В 1972 году палеонтологи Найлз Элдридж и Стивен Джей Гулд назвали эту модель прерывистым равновесием.20 По словам Гулда, «каждый палеонтолог всегда знал», что это доминирующая модель в ископаемых.21 Другими словами, «немыслимо огромное» количество переходных звеньев, постулированное Дарвином, отсутствует не только в Кембрийском взрыве, но и во всей ископаемой летописи.
Два человеческих скелета
Даже если бы у нас была хорошая летопись окаменелостей, нам все равно потребовалось бы воображение, чтобы составить рассказ о взаимоотношениях предков и потомков. Вот почему: Если бы вы нашли два человеческих скелета, похороненных в поле, как бы вы могли узнать, произошел ли один из них от другого? Без опознавательных знаков и письменных записей, а в некоторых случаях и без ДНК, это было бы невозможно узнать. И все же вы имеете дело с двумя скелетами одного и того же недавно жившего вида. Если же речь идет о двух разных, древних, вымерших видах – зачастую далеких друг от друга во времени и пространстве, – то продемонстрировать связь между предками и потомками не получится.
Десятилетия назад палеонтолог Гарет Нельсон писал: «Идея о том, что можно обратиться к ископаемым и ожидать эмпирического восстановления последовательности предков и потомков, будь то виды, роды, семейства или что-то еще, была и остается пагубной иллюзией».22 В 1999 году биолог-эволюционист Генри Ги написал, что «связать окаменелости в причинно-следственные цепочки каким-либо достоверным способом фактически невозможно». Он заключил: «Взять ряд окаменелостей и заявить, что они представляют собой род, – это не научная гипотеза, которую можно проверить, а утверждение, которое имеет такую же силу, как сказка на ночь – забавная, возможно, даже поучительная, но не научная».23
Молекулярная филогения

Слово «филогения» относится к эволюционной истории организма.24 Это слово было придумано немецким биологом-дарвинистом Эрнстом Геккелем через несколько лет после публикации книги «О происхождении видов». Эволюционные биологи предлагали филогении, основанные на гомологии в окаменелостях, но, как мы уже видели, и с окаменелостями, и с гомологией есть проблемы. С развитием современной молекулярной биологии эволюционные биологи все чаще пытаются основывать филогении на молекулах, таких как белки и ДНК.
Белки состоят из последовательностей субъединиц, называемых аминокислотами, а ДНК – из субъединиц, называемых нуклеотидами. Разные виды могут содержать одинаковые белки или молекулы ДНК, которые имеют небольшие различия в последовательностях своих субъединиц. Если три разных вида содержат похожую молекулу ДНК, и ее последовательность у вида A более похожа на последовательность у вида B, чем у вида C, то эволюционный биолог может сделать вывод, что A более тесно связан с B, чем с C.
Определение слова «родственный»
Но значение слова «родственный» неоднозначно. В одном смысле оно может относиться к генеалогии, как, например, «Чарльз Дарвин был более тесно связан с Эразмом Дарвином (своим дедом), чем любой из них с Джеронимо». В другом смысле оно может означать сходство, например, «железо более тесно связано с алюминием, чем любой из них с нарциссом».25 Филогенетические выводы предполагают, что молекулярное родство (второй смысл) эквивалентно генеалогическому родству (первый смысл). Эта предпосылка основана на предположении об общем происхождении.
Молекулярные сравнения осложняются проблемой выравнивания. Последовательности ДНК живых существ обычно содержат повторяющиеся и/или удаленные сегменты, поэтому часто бывает непонятно, где их выстраивать. Если две последовательности могут быть выровнены более чем одним способом, то любое сравнение будет сильно зависеть от того, какое выравнивание выберет исследователь. А когда сравнивается множество последовательностей, как это происходит в молекулярных филогениях, проблема становится еще более серьезной.26
Древо жизни эволюции
Дарвин считал, что историю живых существ можно представить в виде «великого древа жизни», где общие предки являются стволом, а современные организмы – концами ветвей.27 Если история жизни похожа на древо, то можно ожидать, что данные молекулярной филогенетики в конечном итоге сойдутся на одном дереве, а по мере накопления новых данных эта связь будет улучшаться. Однако с самого начала молекулярная филогенетика столкнулась с расхождениями между деревьями, основанными на разных последовательностях и разных выравниваниях.
И проблема только усугубляется по мере накопления данных. В 2005 году три биолога, сравнившие 50 последовательностей ДНК из 17 групп животных, пришли к выводу, что «различные филогенетические анализы могут давать противоречивые выводы при [кажущейся] абсолютной поддержке».28 В 2012 году четыре эволюционных биолога сообщили, что «несоответствие между филогениями, полученными на основе... различных подмножеств молекулярных последовательностей, стало повсеместным».29
Таким образом, идея общего происхождения остается предположением. Она не следует из гомологии, разве что путем круговых рассуждений. Ископаемые остаются (как признавал Дарвин) серьезной проблемой. И идея общего предка не вытекает из противоречивых выводов молекулярной филогенетики.
Естественный отбор

В предисловии к книге «О происхождении видов» Дарвин написал: «Я полностью убежден, что виды не являются неизменными». Более того, я убежден, что естественный отбор был главным, но не исключительным средством модификации».30
Но у Дарвина не было никаких доказательств естественного отбора. В книге «О происхождении видов» лучшее, что он мог предложить, – это «одна или две воображаемые иллюстрации».31 Поэтому вместо прямых доказательств естественного отбора Дарвин (который сам разводил голубей) основывал свои аргументы на домашнем размножении, или том, что часто называют искусственным отбором. Он отметил, что «размножением домашних животных тщательно занимались еще в древние времена» и что «его важность заключается в огромном эффекте, производимом накоплением в одном направлении в течение нескольких поколений различий, абсолютно не заметных для необразованного глаза».32
Происхождение видов
Однако за все годы существования домашней селекции никто никогда не сообщал о происхождении нового вида, тем более нового органа или плана тела. В 1930-х годах неодарвинский биолог Теодосий Добжанский использовал слово «микроэволюция» для обозначения изменений внутри существующих видов (таких, как наблюдаемые животноводами), а слово «макроэволюция» – для обозначения происхождения новых видов, органов и планов тела. Он писал,
«К пониманию механизмов макроэволюционных изменений, требующих времени в геологических масштабах, невозможно прийти иначе, чем через полное осознание микроэволюционных процессов, наблюдаемых в течение человеческой жизни и зачастую контролируемых волей человека. По этой причине мы вынуждены при нынешнем уровне знаний неохотно ставить знак равенства между механизмами макро- и микроэволюции и, исходя из этого предположения, продвигать наши исследования настолько далеко вперед, насколько позволит эта рабочая гипотеза».33
Доказательства естественного отбора?
Но «рабочая гипотеза» – это не доказательство. Лишь в 1950-х годах британский натуралист Бернард Кеттлуэлл обнаружил, как казалось, первое доказательство естественного отбора. Березовые пяденицы в Великобритании существуют преимущественно в двух разновидностях: темной («меланической») и светлой. До промышленной революции XIX века меланические формы были редки или вовсе отсутствовали, но когда дым от промышленных городов затемнил стволы близлежащих деревьев, меланические формы стали встречаться гораздо чаще. Это явление, названное промышленным меланизмом, было объяснено тем, что меланические мотыльки лучше маскируются, чем светлые, и поэтому менее заметны для хищных птиц: другими словами, это естественный отбор.
Кеттлуэлл отловил несколько особей каждого сорта и пометил их крошечным пятнышком краски. Затем он выпустил их на стволы деревьев темного или светлого цвета. Когда на следующий день он снова поймал несколько особей, то обнаружил, что выжило значительно большее количество лучше замаскированных мотыльков. Кеттлуэлл назвал эту историю «недостающим доказательством Дарвина».34 Эта история, обычно иллюстрируемая фотографиями светло- и темноокрашенных мотыльков на светло- и темноокрашенных стволах деревьев, десятилетиями фигурировала во многих учебниках биологии как убедительное доказательство эволюции.35
Повадки березовых пядениц
Однако к 1980-м годам стало ясно, что в природе березовые пяденицы обычно не отдыхают на стволах деревьев. Они летают ночью, а днем отдыхают на верхних ветках, где их не видно. Выпуская мотыльков на стволы деревьев в дневное время, Кеттлуэлл не смог смоделировать естественные условия. Оказалось, что большинство фотографий из учебников были инсценированы путем прикрепления мертвых мотыльков к стволам деревьев или путем размещения живых мотыльков в неестественных позах и фотографирования их до того, как они улетели.36
Более убедительные доказательства естественного отбора были получены от вьюрков на Галапагосских островах в 1970-х годах. На островах обитало 13 видов вьюрков, и биологи Питер и Розмари Грант и их коллеги изучали один из них на одном острове. Гранты и их коллеги вели подробные записи анатомии каждого вида вьюрков, включая длину и толщину их клювов. Когда в 1977 году сильная засуха погубила многие растения на островах, около 85 процентов птиц погибли. Гранты и их коллеги отметили, что у выживших клювы были в среднем на 5 процентов больше, чем у популяции до засухи, предположительно потому, что выжившие птицы лучше справлялись с раскалыванием жестких семян, оставшихся после засухи. Другими словами, сдвиг произошел в результате естественного отбора. Гранты подсчитали, что если бы подобная засуха случалась каждые десять лет, клювы птиц продолжали бы увеличиваться, пока через 200 лет они не стали бы квалифицироваться как новый вид.37
Прибытие сильнейших
Однако когда засуха закончилась и пошли дожди, пищи стало много, и средний размер клюва вернулся к норме. Никакой чистой эволюции не произошло.38 Тем не менее «дарвиновские вьюрки» попали в большинство учебников по биологии как доказательство эволюции путем естественного отбора.39
Итак, доказательства естественного отбора есть, но, как и в случае с домашней селекцией, он никогда не приводил к чему-то большему, чем микроэволюция. Как писал в 1904 году голландский ботаник Хьюго де Врис, «естественный отбор может объяснить выживание сильнейших, но он не может объяснить появление сильнейших».40
Для объяснения появления сильнейших большинство современных эволюционных биологов полагаются на мутации.
Мутации

Дарвин настаивал на том, что новые вариации – сырье для естественного отбора – возникают без цели и направления, но он не знал их источника. Только в 1953 году, когда Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик открыли молекулярную структуру ДНК, многие биологи решили, что источник найден.
Уотсон и Крик пришли к выводу, что ДНК состоит из двух комплементарных нитей, каждая из которых состоит из последовательности четырех субъединиц. В 1958 году Крик предположил, что последовательности субъединиц определяют последовательности молекул РНК, которые функционируют как промежуточные звенья в синтезе белков. Затем последовательности РНК определяют последовательности аминокислот – субъединиц белков.41
Центральная догма
Некоторые современные биологи считают, что последовательность аминокислот определяет конечную форму белка, а белки определяют конечную форму организма. Эту линию рассуждений иногда называют центральной догмой молекулярной биологии, и она может быть грубо обобщена как «ДНК делает РНК, белок делает нас». В 1970 году молекулярный биолог Франсуа Жакоб написал, что организм – это реализация «генетической программы», записанной в его ДНК.42 Согласно этой точке зрения, изменения (мутации) в последовательностях ДНК могут изменить генетическую программу и тем самым модифицировать организм любым способом. Молекулярный биолог Жак Моно (разделивший с Жакобом Нобелевскую премию 1965 года) писал, что с этим осознанием «и пониманием случайной физической основы мутаций, которое также дала молекулярная биология, механизм дарвинизма наконец-то надежно обоснован. И человек должен понять, что он всего лишь случайность».43
Но действительно ли мутации ДНК могут быть источником вариаций, необходимых для макроэволюции? Конечно, они могут вызывать изменения в организме, но биологи давно признали, что большинство мутаций ДНК либо нейтральны (то есть не приводят к заметным изменениям), либо вредны. Для того чтобы эволюция привела к появлению растений и животных из низших форм жизни, нам нужны мутации, вызывающие полезные изменения. В противном случае естественный отбор будет либо игнорировать их, либо стремиться устранить.
Только небольшие биохимические изменения
Были обнаружены редкие полезные мутации, но все они вызывают лишь небольшие биохимические изменения – не новые органы или планы тела. Часто эти благоприятные изменения связаны с потерей или ослаблением функции на биохимическом уровне.44 Многие биологи пришли к выводу, что идея генетической программы ошибочна и что ДНК не управляет развитием организма. ДНК необходима, но не достаточна; в процесс вовлечены и другие факторы. Один из них – пространственная информация в мембранных паттернах.45 По словам эволюционного биолога Томаса Кавалье-Смита, идея о том, что ДНК содержит всю информацию, необходимую для создания организма, «просто ложна». Мембранные паттерны играют
«ключевую роль в механизмах, преобразующих линейную информацию ДНК в трехмерные формы одноклеточных и многоклеточных организмов. Развитие животных создает сложный трехмерный многоклеточный организм, не начиная с линейной информации в ДНК... а всегда начиная с уже очень сложного трехмерного одноклеточного организма – оплодотворенной яйцеклетки».46
С 1970-х годов молекулярные биологи проводят всесторонний скрининг мутаций, влияющих на развитие эмбриона у плодовых мушек, круглых червей, данио-рерио и мышей. Были выявлены сотни мутаций, но ни одна из них не изменяет развитие фундаментальным образом, необходимым для макроэволюции. Все имеющиеся данные приводят к выводу, что, сколько бы мы ни мутировали эмбрион плодовой мушки, возможны только три исхода: нормальная плодовая мушка, дефектная плодовая мушка или мертвая плодовая мушка. Даже домашняя муха, не говоря уже о круглом черве, данио-рерио или мыши, не может быть получена путем мутаций.
Видообразование

Мы знаем, что видообразование произошло, потому что в истории жизни появилось много новых видов. Эволюционный биолог Эрнст Майр писал: «Дарвин назвал свой великий труд "О происхождении видов", поскольку полностью осознавал, что изменение одного вида в другой является самой фундаментальной проблемой эволюции».47 По мнению эволюционного биолога Дугласа Футуймы, видообразование «является непременным условием разнообразия», необходимого для эволюции. Видообразование «стоит на границе между микроэволюцией – генетическими изменениями внутри популяций и между ними – и макроэволюцией».48
Но как происходит видообразование?
Часть проблемы заключается в том, что термин «вид», как известно, трудно определить. Определение, применимое к растениям и животным, не обязательно подойдет для бактерий, а определения, применимые к живым существам, не обязательно подойдут для окаменелостей. По состоянию на 2004 год биологи и палеонтологи использовали несколько десятков определений.49 Определение, наиболее часто используемое эволюционными биологами, – это «концепция биологического вида», согласно которой виды – это группы скрещивающихся природных популяций, репродуктивно изолированных от других подобных групп.50
Если виды определяются таким образом, то, в некотором смысле, видообразование наблюдается в лаборатории. Обычно при естественной или искусственной гибридизации двух разных видов гибриды оказываются стерильными, поскольку материнские и отцовские хромосомы слишком несхожи и не могут объединиться при делении клеток. Иногда, однако, гибрид претерпевает удвоение хромосом, или полиплоидию. При наличии одинаковых наборов хромосом, способных к клеточному делению, гибрид может стать плодовитым и образовать новый вид в соответствии с концепцией биологического вида. В первые десятилетия XX века шведский ученый Арне Мюнцинг использовал два вида растений для получения гибрида, у которого произошло удвоение хромосом, и в результате получился пикульник пикульник, представитель семейства яснотковых, встречающийся в природе.51
Видообразование путем полиплоидии называют вторичным видообразованием, чтобы отличить его от первичного видообразования – разделения одного вида на два. По словам Дугласа Футуймы, полиплоидия «не дает новых крупных морфологических характеристик... [и] не вызывает эволюции новых родов» или более высоких уровней в биологической иерархии.52 Поэтому, хотя вторичное видообразование путем полиплоидии и наблюдалось у цветковых растений, оно не является решением проблемы Дарвина. Решением было бы первичное видообразование путем вариации и отбора, чего не наблюдалось.
Дарвин и зарождающиеся виды
В 1940 году генетик Ричард Голдшмидт утверждал, что «фактов микроэволюции недостаточно для понимания макроэволюции». Он заключил:
«Микроэволюция не ведет за пределы вида, и типичные продукты микроэволюции, географические расы, не являются зарождающимися видами».53
Дарвин использовал термин «зарождающийся вид» (incipient species) для обозначения разновидности одного вида, которая, по его мнению, находится в процессе становления нового вида: «Я полагаю, что хорошо заметная разновидность может быть справедливо названа зарождающимся видом».54 Но как мы можем узнать, находятся ли две разновидности (или расы) в процессе превращения в отдельные виды? Сенбернары и чихуахуа – две разновидности собак (Canis lupis familiaris), которые по анатомическим причинам не скрещиваются между собой естественным образом. Могут ли они стать отдельными видами? Айны, живущие на севере Японии, и кунги, живущие на юге Африки, относятся к виду людей (Homo sapiens sapiens). Хотя представители обеих групп, несомненно, могли бы скрещиваться между собой, без современных технологий, позволяющих массово перемещать людей по всему миру, они были бы (для всех практических целей) репродуктивно изолированы географически, лингвистически и культурно. Являются ли они, таким образом, зарождающимися видами? Очевидно, что дарвиновский термин «зарождающиеся виды» – это теоретическое предсказание, а не доказательство.
Происхождение нового вида?
Иногда мы читаем в новостях о том, что ученые наконец-то заметили происхождение нового вида. Однако такие случаи неизменно являются либо примерами зарождающегося видообразования, либо случаями, когда ученые на основе уже существующих видов делают вывод о том, как они могли разделиться в прошлом.55 Наблюдательные доказательства первичного видообразования все еще отсутствуют.
В 1992 году биолог-эволюционист Кит Стюарт Томсон написал: «Незавершенным делом для биологов является определение бесспорного доказательства эволюции», а «бесспорным доказательством эволюции является видообразование, а не локальная адаптация и дифференциация популяций». До Дарвина, объясняет Томсон, было принято считать, что виды могут изменяться только в определенных пределах; действительно, столетия искусственного отбора, казалось бы, продемонстрировали такие пределы экспериментально. «Дарвину пришлось показать, что эти пределы могут быть нарушены, – писал Томсон, – и нам тоже».56
В 1996 году биологи Скотт Гилберт, Джон Опиц и Рудольф Рафф написали:
«Генетика могла бы быть адекватной для объяснения микроэволюции, но микроэволюционные изменения частоты генов не рассматривались как способные превратить рептилию в млекопитающее или рыбу в амфибию. Микроэволюция рассматривает адаптации, которые касаются выживания сильнейших, а не появления сильнейших».
Они пришли к выводу:
«Происхождение видов – проблема Дарвина – остается нерешенной».57
Доказательства первичного видообразования
Английский бактериолог Алан Линтон занялся поиском доказательств первичного видообразования и в 2001 году пришел к выводу:
«В литературе нет ни одного доказательства того, что один вид эволюционировал в другой. Бактерии, простейшая форма самостоятельной жизни, идеально подходят для такого рода исследований: время их генерации составляет от двадцати до тридцати минут, а численность популяции достигается через восемнадцать часов. Но за 150 лет существования науки бактериологии нет никаких доказательств того, что один вид бактерий превратился в другой... Поскольку нет никаких доказательств смены видов между простейшими формами одноклеточной жизни, неудивительно, что нет никаких доказательств эволюции от прокариотических [например, бактериальных] к эукариотическим [например, растительным и животным] клеткам, не говоря уже обо всем многообразии высших многоклеточных организмов».58
В 2002 году биологи-эволюционисты Линн Маргулис и Дорион Саган написали:
«Видообразование, будь то на далеких Галапагосах, в лабораторных клетках с дрозофилами [плодовыми мушками] или в переполненных окаменелостями отложениях палеонтологов, до сих пор не удалось проследить напрямую».59
Один неверный аргумент Дарвина

Дарвин назвал «Происхождение видов» «одним длинным аргументом».60 Это был аргумент против доктрины, согласно которой виды были созданы, и аргумент, выдвигающий гипотезу о том, что все живые существа являются измененными потомками одного или нескольких общих предков. Но в 1859 году эта гипотеза не была подтверждена, и доказательств ее существования до сих пор недостаточно. Гомология превратилась в круговое рассуждение. Окаменелости остаются в лучшем случае неубедительными (и, скорее всего, противоречат дарвинскому градуализму), а молекулярная филогения пронизана несоответствиями. Естественный отбор и мутации приводят не более чем к изменениям внутри существующих видов. А происхождение видов – центральная проблема Дарвина – остается нерешенной.
Возможно, «Происхождение видов» и было одним длинным спором, но с точки зрения эмпирической науки постоянные заявления о том, что доказательства эволюции «неопровержимы»61 (как выразился Ричард Докинз), лучше назвать одним длинным блефом.
-
назад
Theodosius Dobzhansky, “Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution,” The American Biology Teacher 35 (1973), 125-129.

-
назад
Richard Dawkins, “Put Your Money on Evolution,” The New York Times (April 9, 1989), section VII, 35, https://www.nytimes.com/1989/04/09/books/in-short-nonfiction.html (accessed August 23, 2020).

-
назад
Charles Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, 1st ed. (London, UK: John Murray, 1859), 6, http://darwin-online.org.uk/content/frameset?pageseq=508&itemID=F373&viewtype=side (accessed August 23, 2020).

-
назад
Francis Darwin, ed., The Life and Letters of Charles Darwin, Including an Autobiographical Chapter (London, UK: John Murray, 1887), volume I, 309, http://darwin-online.org.uk/content/frameset?pageseq=327&itemID=F1452.1&viewtype=side (accessed August 23, 2020).

-
назад
Charles Darwin, Origin of Species, 1st ed. (1859), 434, http://darwin-online.org.uk/content/frameset?pageseq=453&itemID=F373&viewtype=side (accessed August 23, 2020).

-
назад
Darwin, Origin of Species, 1st ed., 435.

-
назад
Charles Darwin, Origin of Species, 4th ed. (1866), 513, http://darwin-online.org.uk/content/frameset?pageseq=545&itemID=F385&viewtype=side (accessed August 23, 2020).

-
назад
Darwin, Origin of Species, 1st ed., 435.

-
назад
Jonathan Wells, Zombie Science: More Icons of Evolution (Seattle, WA: Discovery Institute Press, 2017), 44-47.

-
назад
Thomas J. Givnish, “New evidence on the origin of carnivorous plants,” Proceedings of the National Academy of Sciences USA 112 (2015), 10-11.

-
назад
Leonardo O. Alvarado-Cárdenas, Enrique Martínez-Meyer, Teresa P. Feria, Luis E. Eguiarte, Héctor M. Hernández, Guy Midgley, and Mark E. Olson, “To converge or not to converge in environmental space: Testing for similar environments between analogous succulent plants of North America and Africa,” Annals of Botany 111 (2013), 1125-1138.

-
назад
David B. Wake, “Homoplasy, homology and the problem of ‘sameness’ in biology,” Novartis Symposium 222—Homology, eds. G.K. Bock and G. Cardew (Chichester, UK: John Wiley & Sons, 1999), 45.

-
назад
Ronald H. Brady, “On the independence of systematics,” Cladistics 1 (1985), 113-126.

-
назад
Wells, Zombie Science, 42.

-
назад
Simon Conway Morris, Life’s Solution: Inevitable Humans in a Lonely Universe (Cambridge, NY: Cambridge University Press, 2003), 283, 327.

-
назад
Merriam-Webster’s определение «окаменелость»: https://www.merriam-webster.com/dictionary/fossil (accessed August 23, 2020).

-
назад
Charles Darwin, Origin of Species, 1st ed., 281-282, http://darwin-online.org.uk/content/frameset?pageseq=299&itemID=F373&viewtype=side (accessed August 23, 2020).

-
назад
Darwin, Origin of Species, 1st ed., 308, http://darwin-online.org.uk/content/frameset?pageseq=326&itemID=F373&viewtype=side (accessed August 23, 2020).

-
назад
James W. Valentine, Stanley M. Awramik, Philip W. Signor, and Peter M. Sadler, “The biological explosion at the Precambrian-Cambrian boundary,” Evolutionary Biology 25 (1991), 279-356.

-
назад
Niles Eldredge and Stephen Jay Gould, “Punctuated equilibria: An alternative to phyletic gradualism,” Models in Paleobiology, ed. Thomas J. M. Schopf (San Francisco, CA: Freeman Cooper, 1972), 82-115.

-
назад
Stephen Jay Gould, The Structure of Evolutionary Theory (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002), 759.

-
назад
Gareth Nelson, “Presentation to the American Museum of Natural History” (1969), in David M. Williams and Malte C. Ebach, “The reform of palaeontology and the rise of biogeography,” Journal of Biogeography 31 (2004), 685-712.

-
назад
Henry Gee, In Search of Deep Time: Beyond the Fossil Record to a New History of Life (New York: The Free Press, 1999), 113, 116-117.

-
назад
Merriam-Webster’s определение «филогения» https://www.merriam-webster.com/dictionary/phylogeny (accessed August 23, 2020).

-
назад
Wells, Zombie Science, 32-33.

-
назад
James A. Lake, “The order of sequence alignment can bias the selection of tree topology,” Molecular Biology and Evolution 8 (1991), 378–385; Wells, Zombie Science, 35-36.

-
назад
Charles Darwin, Origin of Species, 1st ed., 130, http://darwin-online.org.uk/content/frameset?pageseq=148&itemID=F373&viewtype=side (accessed August 23, 2020).

-
назад
Antonis Rokas, Dirk Krüger, and Sean B. Carroll, “Animal evolution and the molecular signature of radiations compressed in time,” Science 310 (2005), 1933-1938.

-
назад
Liliana Dávalos, Andrea Cirranello, Jonathan Geisler, and Nancy Simmons, “Understanding phylogenetic incongruence: Lessons from phyllostomid bats,” Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society 87 (2012), 991-1024.

-
назад
Charles Darwin, Origin of Species, 1st ed., 6, http://darwin-online.org.uk/content/frameset?pageseq=21&itemID=F373&viewtype=side (accessed August 23, 2020).

-
назад
Darwin, Origin of Species, 1st ed., 90, http://darwin-online.org.uk/content/frameset?pageseq=105&itemID=F373&viewtype=side (accessed August 23, 2020).

-
назад
Darwin, Origin of Species, 1st ed., 32-34, http://darwin-online.org.uk/content/frameset?pageseq=47&itemID=F373&viewtype=side (accessed August 23, 2020).

-
назад
Theodosius Dobzhansky, Genetics and the Origin of Species (New York: Columbia University Press, 1937), 12.

-
назад
H.B.D. Kettlewell, “Darwin’s missing evidence,” Scientific American 200 (1959), 48–53.

-
назад
Jonathan Wells, “Second Thoughts About Peppered Moths: This classical story of evolution by natural selection needs revising,” The Scientist 13 (May 24, 1999), https://www.discovery.org/a/590/ (accessed August 23, 2020); Jonathan Wells, Icons of Evolution (Washington, DC: Regnery, 2000), 137-157.

-
назад
Judith Hooper, Of Moths and Men: Intrigue, Tragedy and the Peppered Moth (London, UK: Fourth Estate, 2002); Wells, Zombie Science, 63-66.

-
назад
Peter T. Boag and Peter R. Grant, “Intense natural selection in a population of Darwin’s finches (Geospizinae) in the Galápagos,” Science 214 (1981), 82-85.

-
назад
H. Lisle Gibbs and Peter R. Grant, “Oscillating selection on Darwin’s finches,” Nature 327 (1987), 511-513.

-
назад
Wells, Icons of Evolution, 159-175.

-
назад
Hugo de Vries, Species and Varieties, Their Origin by Mutation, 2d ed. (Chicago, IL: Open Court Press, 1906), 825-826, https://www.gutenberg.org/files/7234/7234-h/7234-h.htm (accessed August 23, 2020).

-
назад
Francis H.C. Crick, “On protein synthesis,” Symposia of the Society for Experimental Biology 12 (1958), 138-163.

-
назад
François Jacob, The Logic of Life, trans. Betty E. Spillmann (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1973), 3.

-
назад
Jacques Monod, quoted in Horace Freeland Judson, The Eighth Day of Creation (New York: Simon & Schuster, 1979), 217.

-
назад
Michael Behe, Darwin Devolves: The New Science About DNA That Challenges Evolution (New York: Free Press, 2019).

-
назад
Jonathan Wells, “Membrane Patterns Carry Ontogenetic Information That Is Specified Independently of DNA,” BIO-Complexity 2014 (2); Jonathan Wells, “Why DNA Mutations Cannot Accomplish What Neo-Darwinism Requires,” Theistic Evolution: A Scientific, Philosophical, and Theological Critique, eds. J.P. Moreland, Stephen C. Meyer, Christopher Shaw, Ann K. Gauger, and Wayne Grudem (Wheaton, IL: Crossway, 2017), 237-256.

-
назад
Thomas Cavalier-Smith, “The membranome and membrane heredity in development and evolution,” Organelles, Genomes and Eukaryote Phylogeny, eds. Robert P. Hirt and David S. Horner (Boca Raton, FL: CRC Press, 2004), 335–351.

-
назад
Ernst Mayr, The Growth of Biological Thought (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982), 403.

-
назад
Douglas J. Futuyma, Evolution (Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2005), 401.

-
назад
Jerry A. Coyne and H. Allen Orr, Speciation (Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2004), 25.

-
назад
Mayr, The Growth of Biological Thought, 273; Coyne and Orr, Speciation, 26-35.

-
назад
Arne Müntzing, “Cytogenetic Investigations on Synthetic Galeopsis tetrahit,” Hereditas 16 (1932), 105-154.

-
назад
Richard Goldschmidt, The Material Basis of Evolution (New Haven, CT: Yale University Press, 1940), 8, 396.

-
назад
Charles Darwin, Origin of Species, 1st ed., 52, http://darwin-online.org.uk/content/frameset?pageseq=67&itemID=F373&viewtype=side (accessed August 23, 2020).

-
назад
Jonathan Wells, The Politically Incorrect Guide to Darwinism and Intelligent Design (Washington, DC: Regnery, 2006), 52-55.

-
назад
Keith Stewart Thomson, “Natural Selection and Evolution’s Smoking Gun,” American Scientist 85 (1997), 516-518.

-
назад
Scott F. Gilbert, John M. Opitz, and Rudolf A. Raff, “Resynthesizing Evolutionary and Developmental Biology,” Developmental Biology 173 (1996), 357-372.

-
назад
Alan H. Linton, “Scant Search for the Maker,” The Times Higher Education Supplement (April 20, 2001), Book Section, 29.

-
назад
Lynn Margulis and Dorion Sagan, Acquiring Genomes: A Theory of the Origins of Species (New York: Basic Books, 2002), 32.

-
назад
Darwin, Origin of Species, 1st ed., 459.

-
назад
Richard Dawkins, The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution (New York: Free Press, 2009), vii.